Почтенный возраст этого человека выдают лишь едва заметная хромота и трость. В остальном же ‒ незаурядная память, логическое мышление, хорошая речь, изысканные манеры, любовь к жизни, блеск в глазах. Гораздо более молодые люди, знающие Давида Львовича, обреченно вздыхают: «Нам до его возраста не дожить!». А зря, ведь родившихся в двадцатых жизнь потрепала куда жестче, чем их детей. Одно это и заставляет уважать, удивляться и, главное, учиться невесть откуда берущимся у этих стариков оптимизму да умению не просто жить, а полноценно долго жить. Словом, почитайте, авось, пригодится!
‒ Давид Львович, в январе вам исполнилось…
‒ 88 лет. Родился и вырос я в Днепропетровске на улице Ленинградской
в еврейской семье. Отец имел свое дело ‒ держал картонажную артель. Мама, кроме того, что воспитывала меня, младших сестренку и брата, подрабатывала домашним шитьем.
Летом 1941-го я окончил восемь классов, а буквально за пару дней до 22 июня наш класс отправили на трудовую практику в колхоз. Жили там у хозяйки, которая во время воскресного обеда и сообщила нам о войне. Помню, мы сразу засобирались домой, но прибежала наша учительница Фрида Моисеевна и строго-настрого запретила самим идти в город, пообещав раздобыть в сельсовете транспорт. Оказалось, в сельсовете было не до нас, и в город мы пошли-таки пешком. Но все же о нас вспомнили и вдогонку выслали подводы. В Днепропетровске чувствовалась паника, горожане собирали вещи и спешили к железнодорожному мосту, чтобы между бомбежками успеть перебраться на левый берег Днепра. В колонне эвакуированных наша семья дошла до Верхнеднепровска, и тут отец вспомнил, что впопыхах забыл взять мамину швейную машинку. Решил вернуться, мол, в эвакуации она нам поможет выжить. Под обстрелом он на брюхе полз с ней по мосту. И, как оказалось, не зря. В холодном и голодном Казахстане, где мы в конечном счете очутились, эта швейная машинка спасала нас от голода.
В 1943-м, когда мне исполнилось 17 лет, оттуда, из Северо-Казахстанской области, меня взяли в армию. Но тогда говорили ‒ не в армию, а ‒ на войну. Была зима, путь на Запад предстоял неблизкий, поэтому тамошний колхоз выделил мне телогрейку и карточку на получение продуктов в райцентре, за которыми накануне моей отправки пошел отец. Чтобы хоть как-то в дороге защититься от сильного мороза и почти ураганного ветра, поверх ветхого демисезонного пальтеца отец набросил одеяло. Я тогда его так и не дождался. Утром пришла машина с другими призывниками и увезла нас на станцию. А отца не только я не дождался. Уже к концу войны мама в письме написала мне, что скрюченного от мороза и закутанного в то самое одеяло отца нашли только весной, когда сошел снег. Он замерз по дороге в райцентр, так и не отоварив продуктовую карточку.
‒ А тогда, в 43-м, сразу на фронт попали?
‒ Нет, из призывников отобрали более или менее грамотных и повезли в Башкирию, в артиллерийскую учебку. После окончания мне присвоили звание сержанта и как отличника боевой и политической подготовки оставили там же ‒ готовить пополнение для фронта. С фронтовым пеклом меня Б-г миловал ‒ не довелось воевать. В конце концов, я же в этом не виноват!.. Хотя некоторое время служил в действующем гаубичном полку, который находился в постоянной боевой готовности, но непосредственного участия в боевых действиях не принимал.
Вскоре после окончания войны меня перевели в Северный военный округ ‒ за Полярным кругом есть поселок Печенга. Старослужащим и вступившим в партию предложили поступить на лейтенантские курсы в Ташкенте. Так как я подходил под оба требования, то поехал учиться на офицера без особых колебаний и проблем. После учебы в теплом Ташкенте не очень-то хотелось возвращаться на Север. Прослышал о наборе слушателей на ускоренные годичные курсы политруков во Львовское политучилище. По окончании присвоили очередное звание старшего лейтенанта и распределили в Чкалов на должность заместителя командира батареи по политической части. Но недолго пришлось радоваться красотам Поволжья ‒ снова направили в Заполярье. И снова мне повезло: в 1956 году Хрущев объявил сокращение армии на 600 тысяч офицеров и сверхсрочников. Негласно демобилизовывали, в основном, неженатых. А так как я семьей еще не обзавелся, то отправили на гражданку, как говорится, без разговоров. Не очень расстроившись, поехал в родной Днепропетровск, где нужно было помогать маме и не очень еще самостоятельным сестре с братом.
‒ Говорили, в то время трудно было с работой.
‒ Вот и я хотел было сразу куда-нибудь устроиться, но не тут-то было. Таких демобилизованных, без гражданских профессий, офицеров тогда в городе было хоть пруд пруди. И каждый хотел найти стоящую работу. Но на предприятиях от нас воротили нос. После многочисленных и безрезультатных попыток забрел на станкостроительный завод. Отдел кадров дал мне направление в сборочный цех. А там, как увидели лампасы на моих офицерских галифе, подумали, что я из органов, и всеми правдами и неправдами добились моего перевода учеником токаря в механический цех. Трудно мне давалась эта специальность, потому
в учениках пребывал очень долго. Доходило до того, что просил домашних покупать мне с зарплаты по два новых резца, потому как заводские я постоянно ломал. Но, благодаря цеховым старожилам, таки выучился и стал прекрасно работать самостоятельно. Попутно окончил десять классов в школе рабочей молодежи, а потом и станкостроительный техникум.
На станкостроительном заводе я полноценно работал до 2004 года, в общей сложности 48 лет, 18 из которых ‒ будучи на пенсии. Сейчас завода практически нет. Остались в аренде пару цехов. Но все равно, ходил туда до последнего, пока хозяин чуть не послал меня подальше, услышав очередную просьбу выделить материальную помощь для больных ветеранов. Я ведь по сей день остаюсь председателем заводского совета ветеранов и навещаю своих заводских старичков.
Женился поздновато, когда перевалило за тридцать. Дочке уже 55 лет. Считаюсь богатым прадедом, так как имею четырех правнуков и правнучку.
‒ Ваша национальность как-то сказывалась на службе, работе, на отношениях с сослуживцами, заводчанами?
‒ За четырнадцать лет армейской службы ‒ как в военное, так и послевоенное время ‒ могу совершенно точно сказать: тогда моя национальность ровным счетом никого не интересовала. Наверное, не до того было! А на заводе случалось. Как-то выдвинули мою кандидатуру на должность старшего мастера. В связи с чем начальник цеха заподозрил, что его подсиживают и готовят меня на его место. Он начал меня травить. На нервной почве у меня стал шалить желудок, и я перевелся токарем в литейный цех. При следующем инциденте я уже не дал себя в обиду. Во время исполнения обязанностей начальника цеха проводил оперативку, в кабинет вбежал зам. директора завода и попросил срочно организовать погрузку станков. Я ему, мол, подождите несколько минут, сейчас закончу. Он в крик, ругань и в итоге при всех обозвал меня жидом. Не знаю, что со мной случилось, но я вскочил на стол и, сжав кулаки, побежал к обидчику. И тот с перепугу выскочил в дверь и захлопнул ее перед моим носом. Сидевшие за столом мастера рассказывали, что думали, ‒ я его убью. Кстати, один из моих обидчиков еще жив, правда, сильно болеет. Но я и о нем не забываю, навещаю, помогаю как ни в чем не бывало.
После того как окончательно ушел с завода, дома от безделья чуть волком не завыл. Вскоре нашел себе оригинальное занятие в пенсионном фонде Ленинского района. Приходил туда, как на работу, каждое утро и занимал специально выделенное для меня место в приемной. Там совершенно бесплатно помогал людям, например, написать заявление, консультировал по разным несложным вопросам, разъяснял, к кому, в какой кабинет обратиться и тому подобное. Словом, более двух лет считался внештатным работником райсобеса.
‒ Вы, наверное, недалеко живете?
‒ Не сказал бы. Ленинский собес на Западном, а живу я на Красном Камне. Полчаса на маршрутке. Но для меня и сейчас расстояние не преграда. Вот уже пять лет ежедневно езжу в синагогу. Стал активным прихожанином.
‒ Что подвигло бывшего профсоюзного активиста, общественника, члена КПСС прийти в синагогу? Корни?
‒ Не уверен. Отец с матерью были мало религиозны, невзирая на то, что один мой дед был раввином в синагоге на Крутогорной. Кроме русского и украинского языков, дед прекрасно знал идиш, на котором разговаривал дома. С тех пор и я понимаю идиш, только говорить хорошо так и не научился. Разве что пошлый анекдот рассказать. А чтоб я, родители, братья и сестры регулярно ходили в синагогу, дед почему-то не настаивал. Правда, настоял, чтобы мне вовремя сделали обрезание.
Да, меня, как приравненного к участникам войны, сначала привлекли в Совет ветеранов нашей еврейской общины. А уже там сагитировали зайти в синагогу, где я впервые услышал и неожиданно для себя проникся словами нашего раввина Шмуэля Каминецкого. Благодаря этому мудрому человеку, которого я бесконечно уважаю, я стал читать Тору.
‒ Лично вам, вашей душе, что дало познание Торы?
‒ За пять лет с Торой я познал больше, чем за 83 года, прожитых без нее. Особенно это касается нюансов человеческого общения и поведения. Для души ‒ это огромное моральное удовольствие. Немаловажно и то, что я ежедневно при деле, не валяюсь на диване у телевизора и не путаюсь под ногами у домашних.
‒ А с кем сейчас живете?
‒ Жены не стало 12 лет назад, поэтому живу с дочкой, внуком, невесткой и правнучкой. Так что скучать не приходится… Кроме домочадцев люблю компании, у меня много друзей, родственников, которых, к сожалению, становится все меньше. Но все равно, на этот день рождения дома соберется не меньше 20-ти человек. А когда в хеседе отмечал свои 85 лет, мне выделили ‒ спасибо Анатолию Плескачевскому! ‒ зал на 50 персон. Думали, будет достаточно, ан нет ‒ не приглашенных и обиженных оказалось в три раза больше. До сих пор вспоминают… Чтобы реабилитироваться, торжественно всем пообещал на 90-летие накрыть столы в полуторатысячном банкетном зале «Меноры».
‒ У вас, как у юного футбольного фаната «Днепра», на шее фирменный бело-голубой шарфик…
‒ Любовь и одновременно «болезнь» футболом передалась мне по наследству от отца. Он был настоящим болельщиком и до войны брал меня на каждый матч «Стали», так раньше назывался «Днепр». Я и гонял мяч неплохо. Играл везде: в школе, в армии, в училище, даже за Полярным кругом. С директором станкостроительного завода, также бывшим футболистом, организовал футбольную команду, которая едва не прошла в первую лигу. А болеть за «Днепр» не прекращал никогда. С такими же фанатами ездил на выездные встречи команды, до последнего времени не пропускал ни одного матча на нашем стадионе. Сейчас футбол смотрю только по телевизору и страдаю, когда его нет, в межсезонье.
‒ Вам 88 лет по паспорту, а на сколько себя чувствуете? Как со здоровьем?
‒ Если между нами, у меня, тьфу-тьфу, ничего не болит. Правда, ноги иногда подводят. Сейчас хожу с палочкой ‒ в хеседе заставили взять. Конечно, с опорой легче, но никак не привыкну к ее существованию, из-за чего могу где-нибудь забыть или дома оставить, хоть на память и не жалуюсь. В остальном же ‒ я еще бодрячок! Рюмочку? Запросто, и не одну можно ‒ по субботам и праздникам! С едой также не перебираю, ем все, что ставят на стол. До недавнего времени каждое утро делал полноценную зарядку, сейчас расхаживаю только ноги. Но дома не засиживаюсь, потому что движение, общение и хорошее настроение ‒ это жизнь.
‒ Можно ли вышесказанное воспринимать как ваш рецепт долголетия?
‒ Вполне! И к движению, общению, хорошему настроению я бы еще обязательно добавил: не держите зла на тех, кто вас обидел, и вообще ‒ не будьте злыми.
‒ Давид Львович, не сочтите за нахальство, но буду рад оказаться в числе приглашенных на ваше 90-летие!
Беседовал Евгений ЕВТУШЕНКО,
«Шабат шалом» № 2, февраль 2014 г.
Фото автора


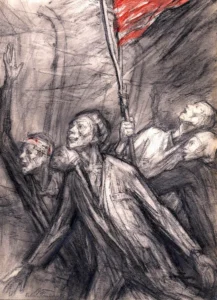



ЩЕ СТАТТІ
«Бережи любов, як скрипку Страдіварі»
Олександр Роднянський: Єврейство — сума ідентичностей
Бітахон Сари-Мушки Харпатіної (закінчення)