В середине апреля в Днепре, в культурно-деловом центре «Менора», прошел показ «Человека с киноаппаратом» – эпохального фильма Давида Кауфмана, в киномире более известного как Дзига Вертов. В 2024 году самой известной ленте режиссера исполняется 95 лет. Для киноискусства – вечность. Для «Человека с киноаппаратом» – мгновение.
Во всяком случае, никого из пришедших на показ в этом убеждать не пришлось. И дело тут не только в магии большого экрана и располагающей обстановке зала «Синай». Просто время над фильмом Кауфмана-Вертова не властно. Что в нем больше всего и привлекает – зрителей, киноведов, киношников. Хотя формально для сегодняшнего дня это совершенно неформатное кино: без связного сюжета, без актерской игры, немое, черно-белое, с зашкаливающим количеством экспериментов с кадром, спецэффектами и монтажом. Фактически – чистый авангард. Причем таким «Человек с киноаппаратом» был уже в момент премьеры в 1929 году. Это не классический документальный фильм и тем более не художественное кино. Сюжет картины можно описать одним предложением – человек с кинокамерой перемещается по большому городу и снимает все, что видит вокруг. В остальном – это режиссерская подача отснятого материала, нарезанного на микросцены и втиснутого в час экранного времени.
Все видит кинооко
Но именно в этом и состоит главная ценность фильма. Он распахивает перед зрителем окно в живой, сконцентрированный мир 1929 года. А разнообразные приемы съемки и монтажа, использованные в ленте, лишь усиливают эффект. Чего, собственно, режиссер с оператором и монтажером и добивались. Не случайно один из фильмов Дзиги Вертова, снятый за 5 лет до «Человека…», называется «Кино глаЗ». А сам Вертов карьеру в большом кино начал с создания творческого объединения «Киноки». Свое видение киноискусства «киноки» сформулировали четко и радикально – в начале двадцатых годов. Упрощенно суть его сводится к передаче «картинки» мира такой, какой ее видит объектив кинокамеры – кинооко. А чтобы это видение не было искажено, из него необходимо вычленить все искусственное, под которым вертовцы подразумевали сценарий и театральность. Своего рода принцип Микеланджело в транскрипции киноязыка: взять глыбу и отсечь все лишнее. Киноки назвали этот жанр «новой кинохроникой», а к важным элементам «настоящего кино» отнесли только две составляющие – киноаппарат и монтаж.
Не прячьте страусами головы
В «Человеке с киноаппаратом» обе эти составляющие идеально сошлись в одной точке, благодаря чему фильм по праву считается вершиной творчества Дзиги Вертова. Но в любом случае это не классическое развлекательное кино – с чем не поспоришь: следить за калейдоскопом сцен и кадров на протяжении 65 минут – серьезное испытание даже для подготовленного зрителя. Особенно, если учесть какой путь развития прошел кинематограф за последние 100 лет.
Поэтому можно понять, почему некоторые из моих юных соседей в зрительном зале ближе к концу фильма периодически вспоминали о своих смартфонах, Гугле и непрочитанных сообщениях. Но все это – детали.
Куда важней другое. Во время просмотра «Человека с киноаппаратом» никто не ушел из зрительного зала. А после финальных кадров многие остались для обсуждения увиденного. Так что испытание временем «новая кинохроника» Дзиги Вертова выдержала.
Впрочем, сам Вертов, исчерпывающую характеристику своим фильмам дал задолго до выхода «Человека…» на экраны.
«Вы ждете того,
чего не будет
и чего ждать
не следует.
Приятельски
предупреждаю:
не прячьте
страусами головы,
подымите глаза,
осмотритесь –
вот!», –
написал Вертов в одном из своих стихов в середине двадцатых годов.
Проще говоря, Дзига Вертов не просто экспериментировал с кинокамерой и монтажом, а разработал особую философию гиперреализма в кино – передачи более точной и насыщенной реальности в сравнении с ее восприятием человеческим глазом. В поиске своего «философского камня» режиссер перепробовал множество различных приемов съемки и редактирования. И как результат, стал пионером в использовании целого ряда техник, которые сегодня – это классика кинодела. В частности, замедленной, ускоренной и покадровой съемки.
Фильм на все времена
Специалисты практически сразу разглядели в «Человеке с киноаппаратом» неординарную ленту, и ныне она считается одной из величайших кинокартин неигрового жанра. А вот массовый зритель о ленте Вертова, как, впрочем, и о нем самом, почти ничего не знает. Для меня самого «Человек с киноаппаратом» стал настоящим открытием. Поэтому не удивительно, что показ фильма в Днепре прошел как и должно проходить элитарное кино – без аншлага и ажиотажа.
Тем не менее, в культурной жизни города показ в рамках проекта «Menorah Center» «Мобилизация интеллектуальной мощи Днепра» несомненно яркое и надолго запомнившееся событие.
Вертеп ртов – Дзига Вертов
На момент создания «Человека с киноаппаратом» у Вертова
в творческом багаже было уже несколько известных картин. В кино он пришел в 22 года, в 1917 году, – в отдел кинохроники Московского кинокомитета. Первый свой фильм смонтировал годом позже. За 6 лет прошел путь от монтажера до опытного режиссера-документалиста.
А в 1922 году «Киноки» заявили о себе во всеуслышание – опубликовали манифест «Мы» в журнале «ЛЕФ», в котором заявили о поиске своего «нигде не краденого ритма» в движении вещей и об отказе от использования в кино «музыки, литературы и театра».
Вообще, история семьи Кауфманов сама по себе заслуживает киновоплощения в каком-нибудь размашистом, пышном байопике. Началась она с классической присказки: «Было у отца три сына» – но с существенной оговоркой: младшего звали Борисом, среднего – Мойсеем/Михаилом, а старшего – Давидом. И реальная история оказалась чудеснее любой сказки. Все три сына связали свою жизнь с кинематографом. И все три – прославились. Борис дважды номинировался на «Оскар», и в 1954 получил его за операторскую работу над американским фильмом «В порту». Давид, он же Дзига Вертов, внес неоценимый вклад в развитие документального жанра, техники съемки и монтажа. А Михаил Кауфман как раз и есть тот самый «человек с киноаппаратом», который в фильме Вертова периодически появляется в кадре. Он снимал фильм, будучи уже известным оператором и одним из «киноков». Практически одновременно с «Человеком…» снял и свой собственный фильм – уже как режиссер. Дебют был удачным, и позже Михаил стал известным советским документалистом.
А что касается Вертова, несмотря на свою увлеченность «новой кинохроникой», мимо других киножанров он также не прошел: приложил руку к созданию первого советского мультфильма «Сегодня», во время войны снял игровой фильм «Тебе, фронт!».
Кстати, с поэзией Дзига Вертов тоже был «на ты», особенно
с кубофутуризмом. Вот, например, как он зарифмовал самого себя:
«Гонг в дверь аорт.
И-о-го-го! –
автовизги,
вертеп ртов –
Дзига Вертов».
Симфония большого города
Но вернемся к «Человеку с киноаппаратом». На самом деле Дзига Вертов был не единственным режиссером, который вдохновение для своих фильмов черпал в бурлящих людских потоках мегаполисов. В двадцатых годах прошлого века
в мировом авангардном документальном кино даже выкристаллизовался отдельный жанр – «городская симфония». Французский режиссер Андре Соваж, например, снял фильм «Этюды о Париже». Итальянский режиссер Альберто Кавальканти дебютировал в «живом» документальном кино своим фильмом «Только время», а немецкому режиссеру Вальтеру Руттману принесла мировую известность документалиста лента «Берлин: Симфонии мегаполиса».
Все эти фильмы созвучны с вертовским «Человеком…». Материал для него Дзига отснял в четырех больших городах СССР: Киеве, Одессе, Харькове и Москве.
С руттмановским «Берлином…» вообще произошла показательная история. Фильм произвел фурор на кинорынке мастерской подачей материала с использованием контрастов и аналогий. Критики заговорили о Руттмане как о новаторе, привнесшем в кино новые техники. Но тут выяснились, что Дзига Вертов в своих фильмах их использовал раньше.
«Человек с киноаппаратом» тоже во многом построен на контрастах, противопоставлениях и синхронности действия. Например, в замедленной съемке показывается прыжок в высоту. И тут же, крупным планом – зрители, наблюдающие за прыжком, у которых на лицах буря эмоций.
Пророк в чужом отечестве
Хотя на самом деле путь Дзиги Вертова в кино был и тернист, и извилист. Коллеги по советскому киноцеху относились к его творчеству неоднозначно. Вертов фактически оказался между двух огней. Представители художественного цеха воспринимали его «новую кинохронику» как угодно, но не как «большое кино». А представители цеха документального считали, что в своих хрониках он искажает действительность.
Собственно, именно по этой причине «Человек с киноаппаратом» был смонтирован в Одессе на базе Всеукраинского фотокиноуправления, куда Вертов на несколько лет перебрался из Москвы после конфликта
с коллегами.
Словом, вклад Дзиги Вертова в мировой кинематограф оценили, но как часто это бывает с новаторами, в основном уже после его смерти. В конце пятидесятых годов французский теоретик кино Эдгар Морен даже ввел в оборот специальный термин для обозначения особого стиля документальной съемки – «cinema verite», в буквальном переводе – киноправда. И назван он так в честь Вертова и его «Кино-Правды» – серии из 23-х кинохроник, снятых в 1922 году. В 1969 году два французских режиссера – Жан-Люк Годар и Жан-Пьер Горен создали «Группу Дзиги Вертова». В Великобритании в пятидесятых годах возникло движение «Свободного кино», в Северной Америке – «Прямое кино». И это далеко не полный перечень последователей режиссера «Человека с киноаппаратом».
Но главное – фильмы Дзиги Вертова продолжают жить. В 2023 году кинопоказ «Человека…» прошел в Тель-Авиве на базе культурной платформы «Левый берег». Несколько лет назад ретроспективный показ фильмов Вертова был организован в Одессе. Еще раньше – в Иерусалиме.
И вот теперь «Человек с киноаппаратом» добрался до Днепра. Кстати, Днепр, точнее Днепропетровск, Дзига Вертов тоже увековечил – в 1927 году во время съемок фильма «Одиннадцатый». Сцены с металлургами, вошедшие в фильм, сняты на днепропетровском металлургическом заводе.
Что тут скажешь? Мир тесен. В отличие от настоящего кино, которое ни границ, ни законов физики, ни устоявшихся канонов не признает.
Валентин Хорошун


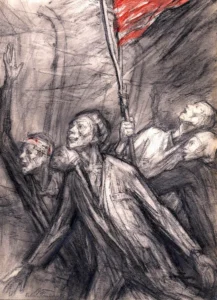



ЩЕ СТАТТІ
Світло Хануки у кожному обличчі
Рейзеле в Дніпрі. Святкова зустріч
Театральне відродження Вадима Сідура